Ольга Тараканова
"Станица Павловская..."
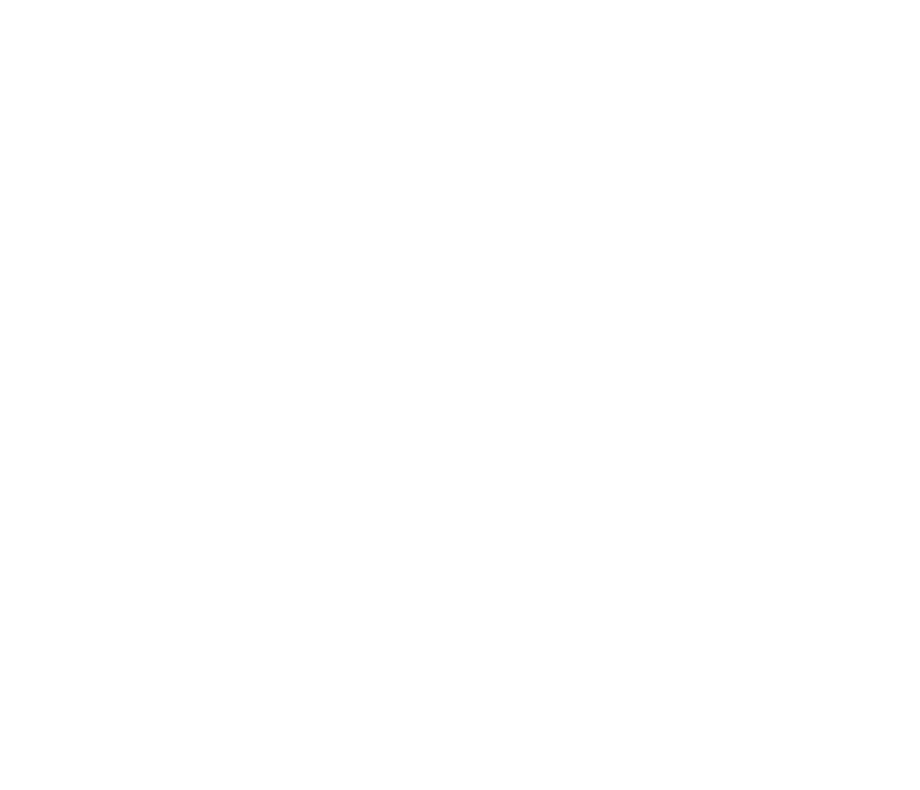
На улице
Карта
Станица Павловская, в ней — улица Горького и улица Гладкова. Станица Незамаевская, от Павловской на машине до нее — 40 минут. Реки Сосыка и Тихонькая, река Кубань, балка Водяная — до нее от Павловской дольше, часа полтора. Полуостров Тамань, западный рубеж Краснодарского края, вокруг полуострова — Черное море, Темрюкский залив Азовского моря, Керченский пролив. Город Екатеринодар, от станицы Павловской — как минимум 102 года назад во времени, до переименования в Краснодар в 1920 году; но возможно, 29 лет вперед во времени, если считать по датам основания: Екатеринодар появился в 1793 году, а куренное селение Павловское в 1822 году. Если все-таки от Павловской до Краснодара сейчас на машине, то два часа, или около часа на электричке до станции Тихорецкая, затем оттуда больше трех часов до станции Краснодар-1.
Сначала я сделала карту: все места, названия которых встречаются в названиях картин. Это гугл-карта, я не была ни в одном из этих мест, разве что, может, проездом. Мне сразу показалось, что, чтобы почувствовать картины Федора Алексеенко, нужно почувствовать место, где они написаны; точнее, что, смотря на картины, я и чувствую место. Во-первых, это конкретное место, конкретные места. Но еще место как идею, как что-то, к чему можно быть привязанной, во что можно вглядываться, в чем невозможно не нуждаться. На картинах — свое место, родное место, из раза в раз. В этом полная статичность, даже незыблемость. Но в то же время, вокруг этого — драматизм, про который будто бы тоже нужно рассказать, потому что именно на его фоне обретает настоящий смысл статика.
Форма
Федор Алексеенко родился и вырос в станице Павловской, живет в станице Павловской. Мне нравится смотреть на его картины даже не как на карту, а как на путеводитель — точнее, систему ориентиров, которая позволяет не просто составить туристическое представление об этой земле, но почувствовать, как на ней течет жизнь. Это жизнь и рыбаков, и пастухов, и дочерей художника, и деревьев с птицами, и кур с гусями, и чеснока с перцем, засушенных, и фруктов, цветов, рек. Короче, какая-то очень насыщенная, полнокровная и подробная жизнь. Она редко яркая, если верить палитре картин, но в каждый элемент этой жизни можно провалиться взглядом, зависнуть в нем, в его предметности и ясности.
Провалиться — еще и в том смысле, что пойти в глубину, куда картины ведут или только указывают путь, а иногда даже в ту глубину, которую они охраняют от внешних взглядов. О том, что стоит за картинами, я расспрашивала семью художника — его дочь Катю Алексеенко и его внучку Анастасию . На самом деле, больше всего мы разговаривали о форме, о процессе работы: ритм и основы композиции, уверенность мазка, множество зарисовок и дни напролет в мастерской. Мы разговаривали о графике: Катя говорила, что именно графическое мышление определяет работы отца, а Настя рассказывала, что исполнила несбывшуюся мечту дедушки — поступить в Институт графики и искусства книги Фаворского, но тот, сам воспитанный все же в классических живописных представлениях о композиции, теперь говорит внучке, что она «офаворилась». Но я расскажу еще несколько историй, к которым меня вывели вслед за картинами разговоры. В окружении этих истории, как мне кажется, рождается (или может, перерождается) и смысл картин, и взаимоотношения с ними.
Люди
Долго мне казалось, что на картинах Федора Алексеенко вовсе нет людей. Выразительнее всего это отсутствие в цикле, основанном на «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Первая из картин цикла в книге написана в 2009 году, и на протяжении больше, чем десяти лет, раз за разом появляются город, дома, дворы, накрытый стол, но ни Ивана Ивановича, ни Ивана Никифоровича. Все близко к тексту: Гоголь тоже рисует и пейзажи, и натюрморты, когда описывает — ну, если пересказать грубо — сломавшуюся дружбу двух соседей, мирить которых пытался весь город всю их жизнь. Но главное, в тексте есть такая замкнутость: Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — это и есть город Миргород, и их самих будто нет вне Миргорода. То есть они не могут уехать и все поменять, да даже переустроить жизнь внутри: все должно быть, как было.
У Федора Алексеенко тоже есть соседи — Алексей Паршков и Владимир Мигачев, друзья и земляки, если говорить уже не о станице Павловской, а о Кубани в целом. Чтобы составить, наверное, поверхностное, но все равно красочное представление о тех, в жизни бок и бок с кем возникают картины Алексеенко: «Паршков демонстрирует возможность земной утопии: в своей многоцветной и композиционно сбалансированной живописи он конструирует собственный кубанский миф, свою версию гармонического существования Человека на Земле, а в реальной жизни возделывает приусадебный участок и обустраивает сад камней в станице под Краснодаром. Второй [Мигачев] сужает свою палитру, приближаясь к эстетике скандинавского нуара, и, используя экзистенциально-экспрессивные жесты вроде подтеков черной краски, изображает покинутые, опустошенные, пустотные, разорванные и неспокойные пейзажи». Это пишет географ и куратор Николай Смирнов — он, как и я, не с Кубани, но исследовал «географическое воображение» художников Тамани и вообще нынешнего Краснодарского края и, кажется, ухватил что-то важное[1].
Жизнь
Когда я просматриваю картины в очередной — ну, ближе к десятому — раз, то начинаю замечать, что люди на них на самом деле есть. Просто, если заговорить все же о композиции (или, может, о жанрах), им не отведена главная роль. Они часть пейзажа, часть земли.
В ранних гравюрных сериях есть и почти портретные работы — дочери художника Ульяны за мольбертом, ее отец тоже учил рисовать. Но одного человека из тех, кто звучит в разговорах о жизни, на картинах все же, кажется, совсем нет. Это Бэла Алексеенко- Хан, она тоже художница, тоже преподает в школе искусств и дает частные уроки. Возможно, именно ее история до конца проявляет тот драматизм, из которого растет мой взгляд на картины. Они познакомились в музее.
Когда я сейчас пытаюсь посмотреть на картины не в прошлое, но в будущее, то спрашиваю себя: что это за мир, в котором все люди могут, если захотят, не уезжать никуда из своих домов, а смотреть на них с таким же вниманием, как смотрит Федор Алексеенко? Возможен ли такой мир? Что вообще такой свой дом и своя земля? Если эти вопросы мучают и вас, то дальше вас ждет странная смесь уважения и какой-то, наверное, пронзительности.
[1] Николай Смирнов. Островное воображение Тамани. https://golubitskoefoundation.ru/longreads/imagination-of-taman
Станица Павловская, в ней — улица Горького и улица Гладкова. Станица Незамаевская, от Павловской на машине до нее — 40 минут. Реки Сосыка и Тихонькая, река Кубань, балка Водяная — до нее от Павловской дольше, часа полтора. Полуостров Тамань, западный рубеж Краснодарского края, вокруг полуострова — Черное море, Темрюкский залив Азовского моря, Керченский пролив. Город Екатеринодар, от станицы Павловской — как минимум 102 года назад во времени, до переименования в Краснодар в 1920 году; но возможно, 29 лет вперед во времени, если считать по датам основания: Екатеринодар появился в 1793 году, а куренное селение Павловское в 1822 году. Если все-таки от Павловской до Краснодара сейчас на машине, то два часа, или около часа на электричке до станции Тихорецкая, затем оттуда больше трех часов до станции Краснодар-1.
Сначала я сделала карту: все места, названия которых встречаются в названиях картин. Это гугл-карта, я не была ни в одном из этих мест, разве что, может, проездом. Мне сразу показалось, что, чтобы почувствовать картины Федора Алексеенко, нужно почувствовать место, где они написаны; точнее, что, смотря на картины, я и чувствую место. Во-первых, это конкретное место, конкретные места. Но еще место как идею, как что-то, к чему можно быть привязанной, во что можно вглядываться, в чем невозможно не нуждаться. На картинах — свое место, родное место, из раза в раз. В этом полная статичность, даже незыблемость. Но в то же время, вокруг этого — драматизм, про который будто бы тоже нужно рассказать, потому что именно на его фоне обретает настоящий смысл статика.
Форма
Федор Алексеенко родился и вырос в станице Павловской, живет в станице Павловской. Мне нравится смотреть на его картины даже не как на карту, а как на путеводитель — точнее, систему ориентиров, которая позволяет не просто составить туристическое представление об этой земле, но почувствовать, как на ней течет жизнь. Это жизнь и рыбаков, и пастухов, и дочерей художника, и деревьев с птицами, и кур с гусями, и чеснока с перцем, засушенных, и фруктов, цветов, рек. Короче, какая-то очень насыщенная, полнокровная и подробная жизнь. Она редко яркая, если верить палитре картин, но в каждый элемент этой жизни можно провалиться взглядом, зависнуть в нем, в его предметности и ясности.
Провалиться — еще и в том смысле, что пойти в глубину, куда картины ведут или только указывают путь, а иногда даже в ту глубину, которую они охраняют от внешних взглядов. О том, что стоит за картинами, я расспрашивала семью художника — его дочь Катю Алексеенко и его внучку Анастасию . На самом деле, больше всего мы разговаривали о форме, о процессе работы: ритм и основы композиции, уверенность мазка, множество зарисовок и дни напролет в мастерской. Мы разговаривали о графике: Катя говорила, что именно графическое мышление определяет работы отца, а Настя рассказывала, что исполнила несбывшуюся мечту дедушки — поступить в Институт графики и искусства книги Фаворского, но тот, сам воспитанный все же в классических живописных представлениях о композиции, теперь говорит внучке, что она «офаворилась». Но я расскажу еще несколько историй, к которым меня вывели вслед за картинами разговоры. В окружении этих истории, как мне кажется, рождается (или может, перерождается) и смысл картин, и взаимоотношения с ними.
Люди
Долго мне казалось, что на картинах Федора Алексеенко вовсе нет людей. Выразительнее всего это отсутствие в цикле, основанном на «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Первая из картин цикла в книге написана в 2009 году, и на протяжении больше, чем десяти лет, раз за разом появляются город, дома, дворы, накрытый стол, но ни Ивана Ивановича, ни Ивана Никифоровича. Все близко к тексту: Гоголь тоже рисует и пейзажи, и натюрморты, когда описывает — ну, если пересказать грубо — сломавшуюся дружбу двух соседей, мирить которых пытался весь город всю их жизнь. Но главное, в тексте есть такая замкнутость: Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — это и есть город Миргород, и их самих будто нет вне Миргорода. То есть они не могут уехать и все поменять, да даже переустроить жизнь внутри: все должно быть, как было.
У Федора Алексеенко тоже есть соседи — Алексей Паршков и Владимир Мигачев, друзья и земляки, если говорить уже не о станице Павловской, а о Кубани в целом. Чтобы составить, наверное, поверхностное, но все равно красочное представление о тех, в жизни бок и бок с кем возникают картины Алексеенко: «Паршков демонстрирует возможность земной утопии: в своей многоцветной и композиционно сбалансированной живописи он конструирует собственный кубанский миф, свою версию гармонического существования Человека на Земле, а в реальной жизни возделывает приусадебный участок и обустраивает сад камней в станице под Краснодаром. Второй [Мигачев] сужает свою палитру, приближаясь к эстетике скандинавского нуара, и, используя экзистенциально-экспрессивные жесты вроде подтеков черной краски, изображает покинутые, опустошенные, пустотные, разорванные и неспокойные пейзажи». Это пишет географ и куратор Николай Смирнов — он, как и я, не с Кубани, но исследовал «географическое воображение» художников Тамани и вообще нынешнего Краснодарского края и, кажется, ухватил что-то важное[1].
Жизнь
Когда я просматриваю картины в очередной — ну, ближе к десятому — раз, то начинаю замечать, что люди на них на самом деле есть. Просто, если заговорить все же о композиции (или, может, о жанрах), им не отведена главная роль. Они часть пейзажа, часть земли.
В ранних гравюрных сериях есть и почти портретные работы — дочери художника Ульяны за мольбертом, ее отец тоже учил рисовать. Но одного человека из тех, кто звучит в разговорах о жизни, на картинах все же, кажется, совсем нет. Это Бэла Алексеенко- Хан, она тоже художница, тоже преподает в школе искусств и дает частные уроки. Возможно, именно ее история до конца проявляет тот драматизм, из которого растет мой взгляд на картины. Они познакомились в музее.
Когда я сейчас пытаюсь посмотреть на картины не в прошлое, но в будущее, то спрашиваю себя: что это за мир, в котором все люди могут, если захотят, не уезжать никуда из своих домов, а смотреть на них с таким же вниманием, как смотрит Федор Алексеенко? Возможен ли такой мир? Что вообще такой свой дом и своя земля? Если эти вопросы мучают и вас, то дальше вас ждет странная смесь уважения и какой-то, наверное, пронзительности.
[1] Николай Смирнов. Островное воображение Тамани. https://golubitskoefoundation.ru/longreads/imagination-of-taman